

| БИБЛИОТЕКА |
| ПРОИЗВЕДЕНИЯ |
| ССЫЛКИ |
| О САЙТЕ |

Глава XXXII. Руфь выздоравливает, взгляд в будущее
Alaila pomaikai kaua, ola na iwi iloko o ko kaua mau ia elemakule.1
1 (Тогда мы оба будем счастливы и наши дети будут покоить нашу старость (гавайск.).)
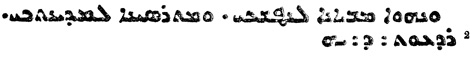
1 (И будет он тебе в старости утешением и опорой (сирийск.)*)
* (В качестве второго эпиграфа приводится изречение из текста библии на сирийском языке)
Вечером Филипп пришел на Илионский вокзал. Весть о его удаче опередила его, и, пока он ждал поезда, его окружила толпа любопытных; градом сыпались вопросы. Счастливец, этакое богатство! Уж теперь-то сомневаться нечего!
Как только Филиппу повезло, он сразу оказался важной персоной, речи его имели глубокий смысл и каждый взгляд был исполнен значения. Ведь слово владельца богатых угольных копей ценится на вес золота, и самую пустую его фразу люди повторяют как откровение.
Филиппу хотелось остаться одному. Его удача казалась ему в эту минуту просто насмешкой, злой шуткой судьбы, которая предлагает роскошные яства человеку, лишенному аппетита. Ведь он стремился к успеху прежде всего ради Руфи, а теперь, в час его торжества, она, может быть, умирает.
- Все в точности, как я говориль, мистер Стерлинк, - твердил Филиппу владелец илионской гостиницы. - Я ковориль Джейку Смиту: уш этот-то своего добьется, провалиться мне на этом месте.
- Вам бы надо было войти в долю, мистер Дузенгеймер, - отвечал Филипп.
- Ваша правда, я и сам оп этом потумываль. Да все моя старуха: коворит, не лезь, не твоя сабота. Ну, я и не полез. И остался на бобах. А как мистер Прайерли, он разве сюта польше не приедет?
- А что?
- Да ведь сколько пыло выпито пива и трукого прочего, у меня все саписано, и счет тавно его ждет.
Эта ночь казалась Филиппу бесконечной, он не находил покоя. В другое время мерное покачивание вагона убаюкало бы его, а перестук колес и рев железного чудовища только весело напоминал бы ему, что все хорошо и скоро он будет у цели. Теперь же это были недобрые и пугающие звуки; да и поезд, казалось, ползет, как черепаха. И не только ползет, но и еще останавливается на каждом шагу и стоит, неподвижный, застывший, в зловещей тишине. "Не случилось ли чего-нибудь? - думал Филипп тревожно. - Нет, кажется, это просто станция. А может быть, тут есть телеграф?" И он жадно прислушивался: что если сейчас откроется дверь и проводник окликнет его и подаст ему телеграмму с роковым известием?
Как долго стоит поезд! И как медленно трогается оп с места и снова идет сквозь ночь, качаясь, пыхтя и скрипя.
Время от времени Филипп отдергивал штору и смотрел в окно. Поезд тащился у подножья лесистых гор, и небо над ними было мрачное и зловещее. Вот и Саскеханна в лунных бликах... Вот долина, и на ней молчаливые домики; их обитатели сейчас мирно спят, без тревог, без волнений. Вот промелькнула церковь, кладбище, мельница, деревня; и вдруг, ни на секунду не замедлив ход, поезд храбро полез по эстакаде в гору, и вот он уже карабкается по ее вершине, а внизу, на глубине ста футов, пенится и бурлит быстрый горный поток.
Что ждет его утром? Может быть, в эту самую минуту, когда он летит к Руфи, ее нежная душа улетает в иные дали, куда он не может за нею последовать? Полный самых мрачных предчувствий, он наконец забылся тревожным сном. В его ушах стоял шум, словно бурлящий поток в половодье рвался из берегов; казалось, сейчас он все затопит, - и Филипп отчаянно боролся, уже ощущая дыхание смерти; и вдруг подле него оказалась Руфь, вся в белом, с ангельски светлым лицом; сияя улыбкой, она указывала на небо и говорила: "Пойдем!" Он вскрикнул и проснулся - поезд с грохотом проносился по мосту, а за окном брезжил рассвет.
Когда настало утро, поезд трудолюбиво пробирался по щедрым землям Ланкастера, мимо бескрайних полей кукурузы и пшеницы, мимо скучных каменных домов, огромных амбаров и житниц, которые могли бы вместить все сокровища Гелиогабала1. Дальше потянулись смеющиеся, ослепительно зеленые поля Честера и наконец пригороды Филадельфии; все явственней чувствовалась близость огромного города: длинные составы, груженные углем и уже пустые, стояли на путях, пересекались и убегали вдаль рельсы, дымили паровозы, все больше становилось фабрик. Наконец появились улицы, и воздух наполнился деловым шумом города. Все замедлялся перестук колес на стрелках и стыках рельсов, и вот поезд вполз в вокзал и остановился.
1 (Сокровища Гелиогабала. - Гелиогабал - римский император с 218 по 222 г. н. э.)
Стояло жаркое августовское утро. Широкие улицы были залиты солнцем, белые ставни домов напоминали закрытые, пышущие жаром печи. Духота угнетала Филиппа; изнемогавший от зноя город лежал точно в обмороке. Трамвай привез Филиппа в северную часть города, прежде входившую в район Спринг-Гарден и лишь недавно застроенную. Здесь, в маленьком кирпичном домике, под стать их нынешнему положению, жили теперь Боултоны.
Завидев этот дом, Филипп уже не мог сдержать нетерпения. Слава богу, ставни не закрыты - Руфь жива! Он взбежал по ступенькам и позвонил. Миссис Боултон встретила его на пороге.
- Филипп! Вот радость!
- Как Руфь?
- Очень больна, но чуть лучше. Жар понемногу спадает. Когда совсем спадет, наступит самое страшное. Доктор боится, что у нее не хватит сил перенести кризис. Да, ее можно повидать.
Миссис Боултон провела Филиппа в маленькую комнатку, где лежала Руфь.
- Конечно, это не то, что в нашем старом доме, - со вздохом сказала она. - Там было так просторно и прохладно! Руфь говорит, что ее прежняя комната кажется ей раем.
Мистер Боултон, сидевший у постели Руфи, поднялся и молча сжал руку Филиппа. Единственное окно было распахнуто, но с улицы вливался раскаленный, не приносивший облегчения воздух. На столе стояла ваза с цветами. Глаза Руфи были закрыты; щеки ее пылали от жара, и она беспокойно металась по подушке, точно от боли.
- Руфь, - сказала мать, склоняясь над нею. - Филипп приехал.
Руфь открыла глаза, и в следующее мгновенье взгляд ее прояснился - она узнала Филиппа; когда он коснулся губами ее лба, она слабо улыбнулась и попыталась поднять свою исхудавшую руку.
- Фил, милый, - шепнула она.
Помочь было нечем, оставалось только ждать, когда спадет эта жестокая лихорадка. Доктор Лонгстрит сказала Филиппу, что Руфь, конечно, заразилась в больнице, но болезнь сама по себе была бы почти не опасна, если бы Руфь не переутомилась так и была бы не такая хрупкая и слабенькая.
- Последние недели она держалась на ногах только усилием воли, а воля у нее железная. Если же эта воля изменит ей теперь, то дело плохо. Сейчас вы, сэр, можете сделать для нее больше, чем я.
- А как? - поспешно спросил Филипп.
- Уж одно то, что вы здесь, как ничто другое, вдохнет в нее жажду жизни.
Потом лихорадка спала, и жизнь Руфи висела па волоске. Два долгих дня она была как пламя свечи на ветру. Филипп не отходил от постели больной, и она, казалось, чувствовала, что он здесь, и цеплялась за него, как человек, уносимый быстрым течением, цепляется за протянутую ему руку помощи. Стоило Филиппу отлучиться на минуту, и она снова и снова обводила комнату тревожным взглядом, как будто тщетно искала что-то.
Филипп так страстно, всеми силами души жаждал ее выздоровления, что его властная воля пробуждала и в ней волю к жизни.
После двух дней борьбы со смертью воля больной начала подчинять себе тело, и силы Руфи стали постепенно восстанавливаться. Еще через день доктор Лонг-стрит уже не сомневалась, что наступило улучшение.
- Я так хочу жить для тебя, Фил! - едва слышно прошептала Руфь, когда Филипп сидел подле нее в этот день, держа ее слабую руку и стараясь уловить в ее лице малейший признак пробуждающейся спасительной решимости.
- Ты будешь жить, родная, ты должна жить, - сказал Филипп, и вера, мужество и непреклонная воля, звучавшие в его голосе, были как повеление, как приказ, которому готово было повиноваться все ее существо.
Филипп медленно возвращал ее к жизни, и она с радостью подчинялась, послушная и беспомощная. Это было так ново для нее - всецело опереться на другого человека и черпать силы в его воле. Какая удивительная, новая и дорогая сердцу радость - сознавать, что ее подняли и несут во вновь обретенный счастливый мир, озаренный светом любви, что поднял и несет ее тот, кого она любит больше жизни.
- Любимый, - говорила она Филиппу, - если бы ты не любил меня, мне было бы все равно - жить пли умереть.
- А разве ты не хотела бы жить ради своей профессии?
- Подожди, когда в твоей шахте не останется угля и вы с папой опять вылетите в трубу, ты еще скажешь спасибо, что у твоей жены есть профессия.
Когда Руфь достаточно окрепла для переезда, ее увезли в Илион, так как чистый воздух был необходим для ее окончательного выздоровления. Вся семья отправилась с ней. Без Филиппа Руфь не могла обойтись и дня, а мистер Боултон поехал взглянуть на чудесную шахту, пустить ее в ход, а там и подыскать покупателей. Филипп настоял на том, чтобы Илион вновь перешел в собственность Боултона; себе он оставил только ту долю, которая предназначалась ему с самого начала; таким образом, мистер Боултон вновь оказался дельцом и немаловажной персоной на Третьей улице. Шахта оказалась богаче углем, чем предполагали, и, конечно, принесет им всем целое состояние, если ею разумно управлять. Биглер, который сейчас же узнал обо всем, был того же мнения и с нахальством, свойственным ему и ему подобным, явился к Боултону за помощью: он купил несколько акций компании патентованных колес для железнодорожных вагонов, и ему нужна небольшая ссуда; этот негодяй Смолл совершенно разорил его!
Мистер Боултон ответил, что он весьма о том сожалеет, и посоветовал подать на Смолла в суд.
Смолл явился к мистеру Боултону с таким же обвинением против Биглера; и мистер Боултон великодушно дал ему такой же совет.
- Если вы с Биглером добьетесь друг для друга обвинительного приговора, - добавил он, - то сможете посадить друг друга в тюрьму за подделку моих векселей - это послужит вам утешением.
Однако Смолл и Биглер не поссорились. Оба они за спиной мистера Боултона ославили его мошенником и распустили слух, что он нажил состояние своим банкротством.
Высоко в горах, на чистом воздухе, среди спелых плодов и золотой сентябрьской листвы Руфь быстро поправилась. Каким прекрасным кажется мир больному, все чувства которого обострены и который был так близок к иному миру, что теперь особенно чуток к самым мимолетным впечатлениям и всем существом откликается на малейшую ласку чудодейственной природы-целителъницы. Как хороша жизнь! Зелень травы, яркие цветы, синева неба, ветерок, колеблющий листву, очертания гор вдали, причудливые облака - все это величайшее наслаждение, словно чудесная музыка для того, кто по ней стосковался. Мир казался Руфи новым и неизведанным, как бы только что созданным нарочно для нее; любовь наполняет этот мир, и сердце до краев полно счастьем.
И в Фолкиле тоже стояла золотая осень. Алиса сидела в своей комнате у открытого окна, смотрела на луг, где косари снимали второй урожай клевера, и вдыхала его нежный аромат. Быть может, он не будил в ее душе горечи. Глубокое раздумье владело ею. Она только что написала письмо Руфи, а на столе перед нею лежал пожелтевший от времени листок бумаги с засушенным четверолистником клевера, - отныне только воспоминание. В своем письме к Руфи она от всей души поздравляла их обоих и желала им счастья на долгие, долгие годы.
- Слава богу, они никогда не узнают! - подумала она вслух.
Они никогда не узнают. И никто не знает, сколько таких женщин, как Алиса, дарят всех вокруг нежностью, преданностью и самоотверженной любовью, оставаясь навсегда одинокими.
- Она славная девушка, - сказал Филипп, когда Руфь показала ему письмо Алисы.
- Это правда, Фил, и мы всегда будем ее любить - счастье ведь щедро, а мы с тобой такие счастливые.
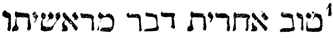
1 (Конец всегда лучше начала (еврейск.)*)
* (Цитата заимствована из текста библии на еврейском языке)
© S-Clemens.ru, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://s-clemens.ru/ "Марк Твен"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://s-clemens.ru/ "Марк Твен"

